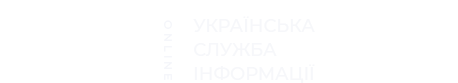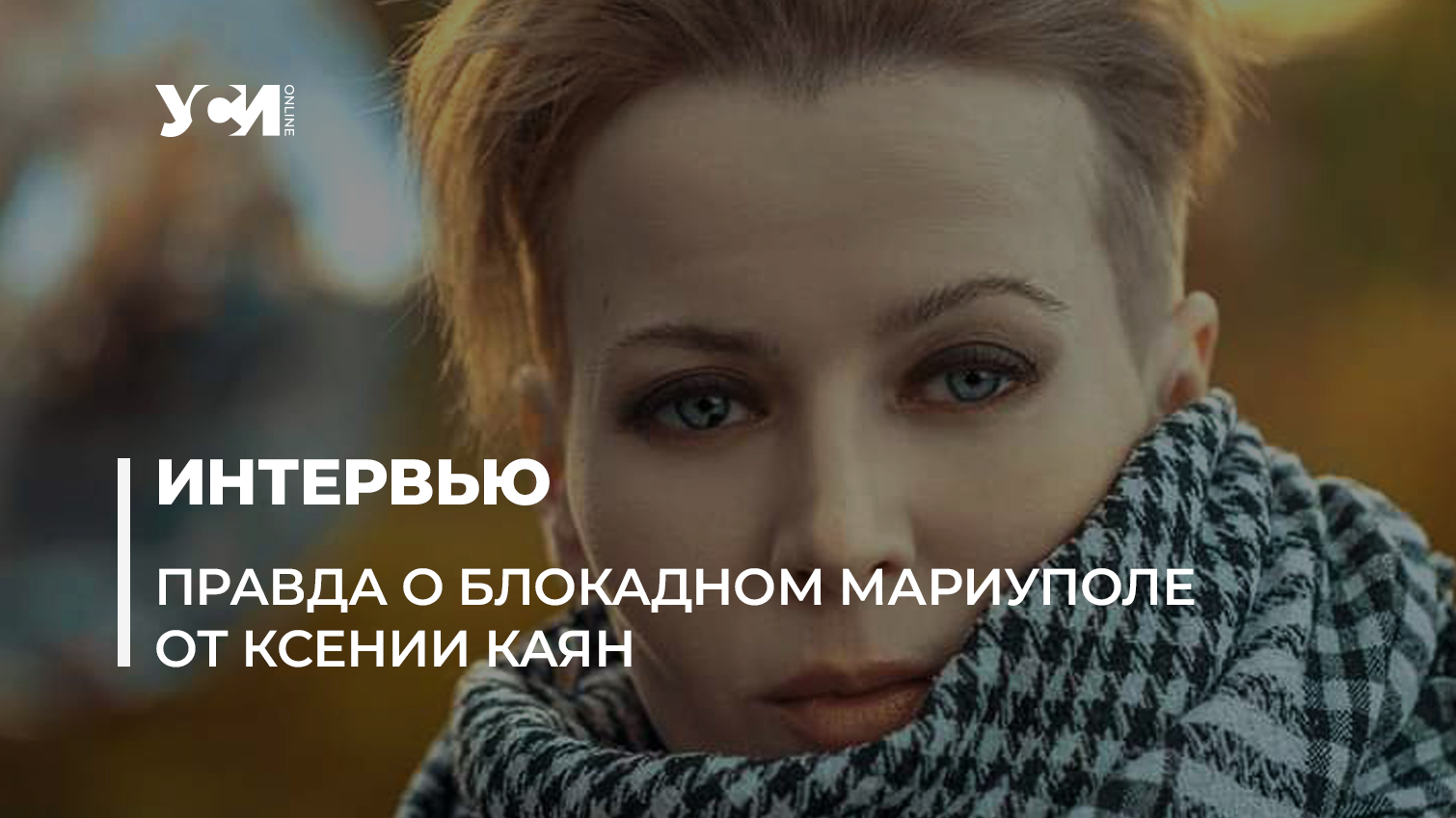
“На 10 сутки в подвале люди начали терять рассудок”: блокадный Мариуполь
Удар градов. Сын Богдан умер сразу. Мама без сознания. Сестра и 14-летняя племянница все в крови, они умоляют о помощи. У мужа сестры пробита грудь, он хрипит. Это то, что увидела Ксения Каян сразу после «прилета» в дом. Она единственная могла ходить.
Ксения родилась в Одессе. Но когда ей было всего 2 года, ее семья переехала в Мариуполь и с тех пор вся ее жизнь была связана с этим городом. Она прожила страшные дни в подвале под бомбежками, принимала роды, была ранена, вывозила людей и боялась расстрела в “ДНР”. Теперь женщина находится в Австрии, в память о любимом сыне она хочет всему миру рассказать правду о блокадном Мариуполе.
История Ксении Каян в материале корреспондента Украинской Службы Информации Анны Городенцевой.
Как для вас началась война?
24 февраля меня в 5 утра разбудил сын. Он сказал, что началось и что нужно брать чемодан и куда-то ехать. Мне позвонил муж, который находился за границей. Он сказал: “Бери сына и срочно езжайте ко мне в Польшу”.
На тот момент я понимала, что нам нужно куда-то ехать, но я не понимала куда, так как это произошло по всей территории Украины. Я сказала мужу, что у меня есть мама и мы никуда не поедем. Мы собрали вещи и переехали с сыном к маме в частный дом в центре города – там было безопаснее. Позже туда переехала и семья моей сестры. Так мы и жили – моя мама, я, мой сын, моя сестра, ее муж и моя 14-летняя племянница. 2 марта нам отключили свет, связь, интернет, в течение нескольких следующих дней у нас исчез газ. А когда пропадает газ, нельзя отапливать дом, нельзя готовить еду и у нас пропала вода.
Что происходило в городе до 2 марта?
Мы лишь слышали взрывы и выстрелы и не могли понять, что происходит. Была информационная блокада. Мы знали, что Мариуполь уже наполовину окружен и с каждым днем эти выстрелы были все ближе со всех сторон.
Наша семья была настроена на выезд из города и мы ждали официальную эвакуацию, но ее не было. Мы не понимали в какую сторону можно ехать и насколько это безопасно. Потому что выстрелы были отовсюду. Люди могли выезжать только самостоятельно на своих авто. Потом мы поняли, что официальной эвакуации не будет, были такие обстрелы, что нельзя было выйти из дома.
Чем обстреливали город? Где вы прятались?
Всем чем было. Танки, ракеты, грады, “солнцепеки”, “тосы” – все возможное вооружение, кроме ядерного оружия, применялось на Мариуполе. Город был окружен и стреляли со всех сторон. Невозможно было выйти из дома. У нас в гараже был маленький погреб, это даже не подвал. Это такая яма. Сначала мы прятались там, когда звучали сирены воздушной тревоги. Но они звучали ровно два дня, потом их не было.
Вы наверняка знаете, что была скинута авиабомба на мариупольский роддом. Мы жили совсем рядом. Ударной волной меня откинуло на машину.
У нас были собраны чемоданы, но мы просто не знали в какую сторону ехать и насколько это безопасно. Мы были в информационной блокаде и гуманитарном кризисе. В городе на тот момент не работали все магазины и все аптеки. Все было сломано, размародерено, не было даже подвоза питьевой воды.
Мэр Вадим Бойченко уехал из города 26 февраля. Он не подготовил ни одно бомбоубежище, не завез воду, еду, медикаменты. Многие люди умирали не только от обстрелов, они умирали от того, что не было просто элементарных медикаментов. Если у тебя диабет – ты покойник. Мэр не обеспечил город генераторами, чтобы звучала сирена. Люди выживали как могли – жгли костры и многие погибли, когда готовили еду. Мы радовались, когда был снег, мы его топили и получали воду. Люди ставили баклажки, чтобы собрать жидкость, которая стекала с крыш.
Сколько дней вы сидели в доме и что происходило?
11 марта наш дом накрыло градами. Мне досталось меньше всех из всей моей семьи. Потому что я была в комнате, а они все были на кухне. У меня было только одно ранение – осколочно-ожоговое, а также контузия. Сейчас у меня большие проблемы со здоровьем и психикой после всего того, через что мне пришлось пройти.
Мой сын погиб сразу. У меня в кармане был фонарик, я проверила реакцию его глаз, они не реагировали. Это была или кома, или сразу смерть.
Когда я поняла, что не могу ему помочь, я сделала военный триаж пациентов. То есть я начала прикидывать, кого можно спасти. Я одна из всех была ходячей. Лежит мама без сознания, лежит мой сын убитый, лежит муж моей сестры и хрипит, у него была пробита грудная клетка в нескольких местах. Моя 14-летняя племянница кричит, что ей больно и просит воды. Она вся была в крови. Моя сестра умоляет про помощь, она тоже была вся изранена.
Я проверила реакцию зениц фонариком у мамы и поняла, что она жива. Начала трясти ее за плечи и бить по лицу, чтобы хоть как-то привести в сознание. Она дышала, у нее было два ранения. Я перетянула ей ногу поясом от кофты, тем самым остановив кровь. Племянницу я волокла вглубь дома.
Прибежали соседи, они помогли занести сестру в дом и я не знаю откуда, но появился украинский военный. Именно он выносил моих раненых родных во время обстрела и попросил моего соседа, у которого еще была целая машина, отвезти нас в больницу.
Так мы вчетвером оказались в детской травматологии третьей городской больницы. Там было очень много раненых. Люди умирали у меня на глазах. Не хватало медицинского персонала. Было ужасно. Моя племянница провела три дня в реанимации и мы не знали, выживет ли она вообще. На моих глазах реанимировали мою маму, оказывали помощь моей сестре, моя очередь подошла только часа через четыре, потому что я тоже была ранена. Медицинского персонала не хватало. Половина медиков просто сбежали и сидели у себя дома, а остальная часть, несмотря на постоянные обстрелы, оказывали помощь раненым.
В больнице были очень тяжелые условия. Там была только питьевая вода, нельзя было даже вымыть руки от крови. Не было света и врачи не могли делать рентген. У моей сестры был чрезвычайно тяжелый перелом – были сломаны кости, очень много ранений, много потерянной крови.
Я могла ходить, но из-за контузии было тяжело. При этом я заботилась не только о своих родных, но и о соседних пациентах. Пришлось принимать даже роды.
Медиков не хватало на всех раненых, которые туда поступали. В коридорах был такой ад – отдельно лежали руки, ноги, головы. У людей даже не было возможности похоронить своих родных. Были такие обстрелы, что нельзя было выйти на улицу.
В больнице не было еды. Для того, чтобы накормить детей, которые лежали в реанимации, мы бегали под обстрелами до разрушенного роддома и пытались найти детскую смесь, которой кормят младенцев.
В больницу забрали только тех, кто был живой. Муж моей сестры и мой сын, их тела остались дома. Туда еще было несколько прилетов, потом дом сгорел. Возможно, они сгорели вместе с ним. Возможно, они были похоронены или их тела сожгли орки в своих мобильных крематориях, чтобы спрятать военные преступления. У меня не было возможности похоронить своего сына.
Сколько там погибших вам никто не скажет. Мы понимаем, что все те люди, которые пропали без вести, скорее всего мертвы. Потому что там был ад на Земле.
Каким был ваш сын?
17 мая ему бы исполнилось 17 лет. Он был совершенно уникальный мужчина. Не подросток, а мужчина. Когда началась война, он был сконцентрирован на том, чтобы помогать людям, помогать окружающим.
На второй день он втихаря поехал в центр переливания крови и умолял, чтобы у него взяли кровь. Но там отказались, потому что он несовершеннолетний.
Он побежал в магазин и на все деньги, которые у него были на карточке, купил шоколад и сигареты. Он бегал и носил все это нашим военным.
Он сообщал в полицию данные о перемещении вражеской техники, когда видел дроны.
Когда выключился свет, Богдан всем соседям грел еду, укреплял окна пожилым, забирал телефоны и бегал к соседу, чтобы заряжать от генератора. Парень всех нас поддерживал, сирен уже не было и он дежурил: когда слышал самолет всех будил, чтобы мы спустились в подвал. Он рубил соседям дрова, чтобы они могли погреться.
Пацану – 16 лет. Он писал посты у себя в Инстаграме, что ребятки мы победим, держитесь, все будет хорошо, мы будем делать все для нашей победы.
Богдан был старшиной лицея – он был умнейший пацан, целеустремленный, мудрый, начитанный и очень-очень добрый. Он ездил к директору лицея и помогал ему укреплять дом. А сейчас этот чиновник продался оккупантам. Он учил наших детей патриотизму, преподавал украинский язык, а теперь рассказывает, как “прекрасен русский мир”. Мне интересно, не снится ли ему мой сын?
Богдан был настоящим патриотом и беспокоился о каждом из своих друзей, бегал искал, где ловит связь, пока это было еще возможно и спрашивал, как у них дела. Он помог нашим соседкам, у которых заклинило дверь, выбраться через окно. Были обстрелы. Я выскочила за ним и говорю: “Богдан, пожалуйста, вернись. Идет обстрел и если с тобой что-нибудь случится у меня сердце встанет”. А он так повернулся, за плечи взял, в глаза посмотрел и говорит: “Мам, ты меня не так воспитала. Я помогу людям, я их вытащу и приведу к нам в дом и только тогда вернусь. А ты, пожалуйста, иди домой”.
Он был самым настоящим мужчиной. Он даже пытался записаться в тероборону Мариуполя, но конечно его не взяли. А еще мой сын был русскоговорящим. И все 8 лет мы прекрасно жили в одном городе с полком “Азов” и никто ни на кого не смотрел косо.
Сколько дней вы провели в больнице?
Я и мама там были четыре дня. А потом нас попросили уйти в бомбоубежище, потому что раненых было так много, что не хватало места. Люди лежали в коридоре и мы должны были уйти, а сестра и племянница остались.
В бомбоубежище нас отвез волонтер. Когда мы ехали, он спросил: “Вас везти к драмтеатру или филармонии?”. Я сказала к филармонии. Через два дня драмтеатр разбомбили. С 14 марта мы не знали, жива ли моя сестра и племянница. А они ничего не знали про нас из-за отсутствия связи.
С 15 по 26 марта были очень сильные обстрелы. Мы оказались на линии фронта. С одной стороны были солдаты “ДНР”, с другой – ВСУ.
Что происходило в это время в бомбоубежище филармонии? Как вы выживали?
Ели один раз в день. 16 суток просидели в убежище. Не могла даже подняться в туалет на первый этаж – были ведра для этих целей. И было уже не важно – мужчина ты или женщина. Там теряли человеческое подобие, все были грязные, воняли, потому что нельзя было помыться. Спали где придется, голодали, хотелось пить, а запасы были ограничены. И все это под постоянными обстрелами, с потолка на нас сыпалась штукатурка и куски бетона.
Некоторые люди где-то на десятые сутки начали терять здравый смысл. Это был просто кошмар. Я теперь знаю, что такое массовая паника, что такое человек, который теряет рассудок. Это все я видела собственными глазами. На тот момент, когда мы туда пришли, там было 260 человек. При этом очень много детей. Самому младшему было 2 месяца. Самому старшему – 8 лет.
В основном мы ели пельмени. Иногда был какой-то суп, один раз был борщ и он был невероятно вкусным. Света конечно не было, как и связи. И мы делали лампадки – на тарелку наливаешь масло и скручиваешь ткань, поджигаешь и горит. Оно воняет, чадит, но зато это свет, хоть какой-то. Были свечи, но их было очень мало и они закончились где-то на третий день. У меня был фонарик и он меня спас. Это был прибор моего отца, который умер 14 февраля, за 10 дней до начала этого ужаса.
Я понимала, что в этом подвале можно остаться навсегда, и никто не будет знать где ты. Я говорила: “Господи, только не так. Я не хочу умереть с грязными волосами в этой яме. Я хочу еще раз увидеть солнце”.
Когда я поняла, что заканчивается вода и еда, и у людей уже сносит крышу, я приняла решение, что нужно выходить любой ценой. Мы собрали группу людей из 15 человек. Надо было выходить из линии огня. Мы собрались и вышли под грады, маму я несла на себе.
То, что мы видели и то, через что мы прошли – это невозможно в 21 веке, это невозможно в стране Европы. У меня очень сильная проукраинская позиция. Наши военные – это наши ангелы. И то, что они до сих пор держат Мариуполь – это должно войти во все учебники всемирной истории. Это героизм. Это наши казаки.
Что было дальше? Как вы добрались в безопасное место?
Мы узнали, что можно выйти из города в курортный поселок Мелекино. Этот маршрут проходил мимо моего дома. Я побежала в гараж, и моя машина чудом завелась. Еще до войны сын зарядил аккумулятор, и он нас спас.
На этой машине я вывезла маму, женщин и детей в Мелекино. Но поселок был под контролем “ДНР”. Мы этого не знали. Когда я привезла маму в это село, я еще два раза под обстрелами возвращалась в город и вывозила людей. Я не могла поступить иначе, потому что я знала, что они погибнут.
Там было 4 пропускных пункта “ДНР”. Они проверили документы, но ничего плохого нам не сделали. То, что я выбралась и вывезла людей – это чудо и я верю, что мне помогал мой сын. Было очень страшно проезжать эти посты. Я понимала, что если они как-нибудь пробьют меня по базе – меня или расстреляют на месте, или будут держать в заложниках и менять на кого-то.
Я объясню почему. В мирное время я работала в организации, которая занималась гуманитарным разминированием. В россии эта организация считается террористической со времен конфликта в Грузии. Эта международная гуманитарная миссия называется “Халатраст”. Она делала очень важную работу для людей, которые жили на линии разграничения. Мы разминировали поля. Я знала, что если в “ДНР” узнают, что я там работала, они меня расстреляют.
Но я понимала, что мне нужно в Украину, потому что оставаться под ними я не буду. В Мелекино ситуация была такая – если у тебя есть какие-нибудь деньги, тебе очень повезло. А если у тебя деньги на карте – тогда это твои проблемы, где тебе жить и что тебе есть. Пакет гречки там стоил 180 гривен. Людей размещали в школе, но здание было переполнено и надо было искать жилье самостоятельно.
Каждый день мы ходили на берег моря и смотрели, как горит наш город – он был черным. Мы видели, как его обстреливают с моря с кораблей, как постоянно летят туда самолеты, слышали, как туда скидывали бомбы, обстреливают с градов, мы видели эти установки “солнцепеки”, “тосы”. Это страшное оружие, очень страшное. И мы не могли ничего сделать, потому что мы продолжали быть без связи, без интернета. Мы были там фактически в гетто. Через два дня Мариуполь закрыли на въезд, и мы не могли похоронить своих близких.
Как вы выбрались?
Вначале было принято решение, что я останусь в Мелекино, дождусь открытия Мариуполя, похороню сына и мужа сестры, а также найду сестру и племянницу. Мы их искали по больницам, показывали людям фото, а потом удалось поймать слабый сигнал Укртелекома и пришло сообщение, что племянница поменяла номер на мобильный оператор “ДНР”. Я поняла, что они живы.
Мы созвонились и она рассказала, что все это время они были в больнице. 17 марта их бомбили, после чего лежачих вывезли на КАМАЗе, но уже под контролем “ДНР”. 5 марта больных принудительно вывезли в Донецк. Сейчас они не могут оттуда выехать.
Это был ужас как я выехала с Мелекино, но я боялась, что нас там закроют и мы решили ехать. Я взяла еще одну женщину с ребенком. Мы проехали 28 блокпостов “ДНР”. На каждом у тебя осматривают машину, проверяют все документы, смотрят твой телефон, компьютер, все гаджеты.
На некоторых участках дороги мины были прямо на проезжей части и нужно маневрировать, чтобы выехать. Ты просто едешь и молишься. Я очень просила в этот момент моего сына мне помочь. Я знала, что теперь он мой ангел. И я говорила: “Богдан, Бодя помоги”. И он мне ответил: “Ты проедешь, все будет хорошо”. И я проехала (на этих словах Ксения начала плакать).
Первый украинский блокпост был в Орехове. Это была такая радость, что мы смогли, что мы прорвались. Когда я увидела первого украинского военного, я плакала. Все плакали. Все.
На данный момент я не знаю, как мне жить дальше без моего сына. Сейчас у меня в планах пройти реабилитацию, потому что у меня ранения и контузия. Когда я буду дееспособна я буду делать все, что умею. Все, что я смогу сделать, чтобы помочь моей стране, моим братьям и сестрам. Я буду волонтерить, переводить статьи для иностранных изданий, потому что я переводчик и я хорошо умею это делать. Потому что мир должен знать.
Ранее на USIonline.com — Адская смена в 22 дня и дыра в груди: интервью с медиком из Мариуполя.
Читайте нас в Facebook, Telegram и Instagram, смотрите на Youtube.